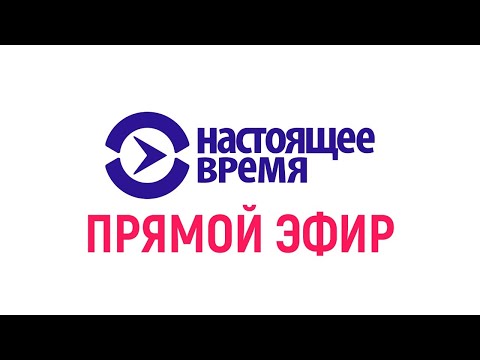Режиссер Андрей Звягинцев: «Не путайте фабрику новостей с фабрикой грез»

– Андрей, шесть лет назад вместе с Золотым венецианским львом на вас обрушилась слава. Как вы ее пережили?
– Сначала был счастлив. Считал награду справедливым воздаянием за честную работу. Все было очень естественно. Потом стал замечать косые взгляды. Но что я мог? Подойти и сказать: «Дружище, успокойся, все нормально, я не ставил себе задачи тебя обойти. Делай свое дело и не смотри на других»?
– Тогда вы с первой попытки взяли высоту, к которой другие идут всю жизнь и не доходят. Но возникает вопрос: что дальше? Кустурица после такой вершины (точнее, глубины), как «Подземелье», облюбовал себе равнину и уже десять лет на ней резвится. Когда я задал ему этот вопрос, он со смехом ответил: «Дальше – только вниз…»
– Действительно, может показаться, что с вершины путь только один – вниз, на равнину. Чтобы не спускаться, можно сказать себе: «Это моя последняя картина». Но это значит, что ты озабочен тем, чтобы непременно остаться наверху. В этом есть что-то инфантильное, этакий «Царь горы». А есть еще и те, которые не участвуют в конкурсах, чтобы не проиграть, и эта озабоченность того же порядка. Какая разница, выиграл ты или нет? Разве для того ты снимал свой фильм? Разве ты сам не знаешь цену тому, что сделал? На самом-то деле есть и другой путь с вершины – это путь еще выше, туда, где ты окажешься над схваткой. Нужно делать кино и не задумываться об этих материях, об этой «презренной пользе», нужно рассматривать любую победу только как доброе подспорье для дальнейшего шага. Победа – чистая условность, практически – лотерея. Однажды я очутился с картиной на фестивале в Санденсе, и меня пригласили на режиссерскую вечеринку. Я думал, что будет несколько человек, а там только столов было десятка три, и за каждым – человек по 12 режиссеров. И наверняка каждый из них хотел бы для себя лучшей доли, своего особого места под солнцем, понимаете? Но я не потому вспомнил этот эпизод. Рядом со мной сидел американец. Он спросил, откуда я и что за фильм привез. Я ему говорю: «Возвращение». То самое, что получило «Золотого льва» на Венецианском фестивале». «Хорошо, – говорит, – поздравляю». Говорит так, без особого энтузиазма. Я бы даже не удивился, если бы он спросил: «А что это за фестиваль такой?», но, когда я в ответ на его вопрос о том, зачем я прилетел в Америку, вдруг сказал ему, что фильм мой номинирован на «Золотой глобус», у него глаза вылезли из орбит, он вдруг наконец меня заметил и стал внимательно изучать: «Wow, – говорит, – congratulations!» Вот тебе и вся слава с ее вершиной. Для американца, например, есть «Оскар» и есть «Золотой глобус», остальное его не интересует. Но это так, на правах анекдота. А что в России? «Изгнание» сравнивают с «Возвращением» и находят, что первый фильм был лучше второго. И что бы я дальше ни снял, будут говорить, что «Возвращение» мне не перепрыгнуть. Наверное, это в человеческой природе – вне сравнительных категорий трудно нам мыслить. Как же мы зависимы от всего на свете: от собственных предрассудков и от общественного мнения, от власти и от изжоги! Вы заметили, что у нас на фестивали обязательно приглашают мэров, пэров и прочих губернаторов, как будто без них кино не кино? Приезжают эти потусторонние существа – и люди, с которыми ты только что душевно общался, вдруг меняются на глазах... И так хочется послать все это подальше. Как же стыдно осознавать в себе или видеть в других этого ничтожного раба. Что-то во всем этом не то...
– Все-таки мы с вами видели больше фильмов, чем представителей власти. Меня интересует ваше мнение о двух картинах, которые вызвали, пожалуй, наибольшие споры, – о «Пленном» Алексея Учителя и «Морфии» Алексея Балабанова.
– «Пленный» меня захватил высказыванием о том, что если враги посмотрят друг другу в глаза, если они волею обстоятельств сблизятся и поделят бремя жизненных трудностей, то каждый из них, возможно, перестанет видеть в другом врага. Война нужна властителям, людям война не нужна.
– Эта мысль в фильме есть, но для кино она не нова и поэтому для меня как для критика не очень интересна. И не смутила ли вас предсказуемость картины? Понятно же, что в случае опасности солдаты убьют пленного, чтобы он их не выдал. Хоть парня, хоть девушку. Даже своего могут убить в случае ранения, чтобы на себе не тащить и врагам не оставлять. Выбора-то у них нет.
– Если бы у них у всех был выбор, возможно, было бы интереснее: скажем, если бы они оказались в ситуации, когда пленник видит отряд чеченцев и поднимается им навстречу и наши уже не могут его застрелить, чтобы не выдать себя, и вынуждены ждать, как поступит он. Возможно, пленник, выйдя к своим, не выдал бы русских солдат, с которыми сжился. Но мало кто поверил бы в такую развязку. Вы бы точно не поверили, потому что исходите из соображений документальной правды в условиях игрового фильма. А следует исходить из высшей правды о человеке. Для меня же важнее то впечатление, о котором я сказал.
– В «Сорок первом» красная героиня выстрелила в своего пленника-любовника, когда он бросился к белым. Автор сценария «Пленного» Владимир Маканин сказал, что обдумывал и такой вариант: солдаты убивают пленного парня, а потом обнаруживают, что это – переодетая девушка.
– Правильно сделал, что отверг эту идею – у нее «мыльный» привкус. А если бы такую концовку снимал, скажем, Балабанов, то в финале, вполне возможно, нас бы всех ожидал... как бы это помягче выразиться, некрофилический контакт. У каждого своя правда. Балабанов в своем движении к правде отказывает человеку в каком бы то ни было оправдании. Мы сейчас не ставим под сомнение право любого художника на свою собственную интерпретацию Человека. Мы сейчас говорим о перспективе этих интерпретаций. Балабановская интерпретация тупиковая. Это приговор. Человек ввергнут без остатка в свою животную природу и потому обречен как проект. Конечно, в его взгляде на мир большая доля правды, и мне эта правда, сказать по совести, ближе и даже нужнее, чем та сусальная правда, которую мне предлагает Первый канал. Но между окончательным приговором и насквозь фальшивым оправданием все-таки есть еще некая территория. Можно назвать ее территорией надежды. Мне хочется верить, и, возможно, вера эта наивна, что за человека еще можно бороться. Мне ближе позиция некоторых представителей уходящего от нас поколения, буквально тающего на глазах, позиция, которую Мераб Мамардашвили сформулировал так: «Человек – это усилие быть человеком». «Морфий», скажу честно, меня разочаровал, потому что после «Груза 200» я ждал большего. На мой взгляд, в «Морфии» слишком много от пособия для начинающего врача. Как ампутировать ногу, как сделать трахеотомию, что делать с обгорелыми. Для меня эти медицинские подробности оказались не только излишне физиологичными, но и избыточными. Конечно, в этой картине радует визуальная культура, внимание к деталям, та тщательность и подробность, с которой режиссер подходит к фактуре. Балабанов – талантливый режиссер. Но лично мне не близка его позиция, если я ее верно истолковываю. Он будто бы искренне любит смерть и стягивает одеяло жизни куда-то вниз.
– Смертолюбие характерно и для других питерских режиссеров. Я в Питере родился – по-моему, это свойство атмосферы. У Олега Ковалова даже фильм такой есть – «Город мертвых». А балабановский «Груз 200» на вас сильно подействовал?
– Очень сильно. Пока смотрел, не мог найти себе места – как будто из меня душу вынимали. Но там есть один почти фундаментальный для меня просчет. Когда этот изверг, начальник милиции, говорит своей матери, что любит похищенную им девушку. Эти слова лишь выдают его безумие. Но одно дело – «Психоз» Хичкока, где представлена частная история, замешенная на конкретном сумасшествии, и совсем другое дело – когда фильм претендует на обобщение. На разговор о тотальной безнаказанности власти, а вовсе не об отдельно взятом сумасшедшем маньяке. Было бы еще страшней, если бы у героя не было никаких других мотивов, кроме абсолютной уверенности в своей безнаказанности. Для меня реплика героя о любви свела историю к частному клиническому случаю, вместо того чтобы открыть лицо нашего главного монстра – этатизма власти... Какая любовь? Кого, кроме себя самого и собственного властного положения, любил нелюдь из Царицынского ОВД, недавно расстрелявший несколько человек в супермаркете? Эта нежить знать не знает, что такое «любить», она знает только одно – «убить».
– Мне мешало смотреть «Груз 200» пренебрежение режиссера к реальности.
– А вам, похоже, это всегда мешает…
– В фантастических фильмах – ничуть. В претендующих на реализм – мешает. Не могу я серьезно воспринимать ситуацию, когда начальник милиции держит у себя дома прикованную к кровати дочь секретаря райкома, устраивает пальбу и средь бела дня привозит туда гроб с покойником. Это совместимо с каким-нибудь условным местом, все жители которого настолько безумны, что воспринимают подобные эксцессы как норму, но в жизнь советского городка никак не вписывается. Там были другие ужасы.
– Этот допуск я режиссеру прощаю, но простил бы его с еще большим энтузиазмом, если бы он не искал объяснения поведению героя любовью к девушке, потому что, повторю, поступки тирана не нуждаются в объяснениях. Весь ужас положения как раз в том и состоит, что власть в тоталитарном государстве полностью подчиняет себе частную жизнь, и лучше бы не попадаться представителю власти, этому воплощению абсолютного зла, лишний раз на глаза. Люди сторонятся милиции, стараются проскочить мимо, только бы не вступать в отношения с ними. По-моему, так очевидно, что наша политическая элита и мы сами – это как будто два отдельных государства, а чиновная и милицейская власть как пограничная территория между этими государствами, как зеркальное отражение подлинного лица наших политических элит. Одно дело – что они говорят нам по телевизору и со страниц газет, и совсем другое – что они делают, потому что делают они это руками своих представителей и не могут не знать, как те от их лица действуют. А если не знают, так, стало быть, дурные они правители. Мировоззрение, абсолютизирующее роль государства и пропагандирующее максимальное подчинение интересов личности интересам государства, – это как раз то самое абсолютное зло, которое любую территорию с легкостью превратит в условное место, «все жители которого будут настолько безумны, что станут воспринимать подобные эксцессы как норму».
– Мне по душе ваши социально-политические взгляды, но не по душе, когда постановщик думает только о том, что делается в кадре, и не представляет себе, что происходит за его пределами. У нас сплошное насилие над действительностью. С самого «Броненосца «Потемкина». Помните сцену, где приговоренных к расстрелу накрывают брезентом? Легко понять, зачем это нужно режиссеру, но невозможно объяснить, зачем это нужно командиру корабля, приказавшему расстрелять бунтовщиков. Чтобы матросы палили наугад, а после штыками добивали раненых? Эйзенштейн потом вспоминал, что у него на съемках был военный консультант-моряк, который возражал против этого эпизода – говорил, что на флоте при расстрелах брезент подстилали, чтобы не запачкать кровью палубу.
– Если бы подстелили, было бы страшнее. Жуткая предусмотрительность, как в Освенциме. А то, что накрыли, не так уж необъяснимо. Могли накрыть, чтобы расстрельщикам было психологически легче казнить. Но вряд ли Эйзенштейн об этом думал. У него было революционное отношение к реальности. Ему требовался жест, аналогичный самой революции. И он его сделал.
|
Фото: AP. LUCA BRUNO
|
– Ну да. Изнасиловал реальность.
– В кино реальность относительна. То, что казалось реальным вчера, сегодня представляется условным. Смотришь старый фильм и думаешь – неужели это принимали за правду? Это как условности при письме. Раньше полагалось писать так: «Засим, милостивый государь, имею честь кланяться. Ваш покорный слуга такой-то». Теперь бы это выглядело как издевательство. Все упростилось. Люди пишут: «Пока. Твой Вася». Или вообще не подписываются, потому что получатель видит адрес отправителя. Как тут судить, что возможно и что невозможно? И потом, непонятное, необъяснимое, возможно, как раз именно то, чего зритель подспудно ждет. Накидывание брезента действует именно потому, что такое иррациональное рождает ужас. Как-то летом, когда мне было лет пять, мы с родителями жили в палаточном лагере на берегу Оби. Вдруг прибегают люди из соседнего лагеря и рассказывают, что к одной из палаток ночью подобрались бандиты, обрубили веревки, обрушили палатку и перерезали спящих прямо сквозь брезент. Зачем они так поступили? Мне это так запало в память, что я даже сцену придумал для фильма. Ночь, военный стан, княжеская палатка, к которой подкрадываются заговорщики. Убивают стражей, обрушивают шатер и копьями через ткань закалывают всех, кто там есть. Причем снимается все изнутри. Кстати, в «Пленном» Учитель делает нечто очень похожее – у него солдаты едут в крытой машине и вдруг в ней образуются дырки от пуль. Очень точный и пугающий образ слепой судьбы и слепой смерти.
– В обеих ваших картинах есть «земной» и «небесный» планы. Они возникли одновременно?
– Нет. Все начиналось с чисто бытовых историй. Верхний план достраиваешь потом. Заполняешь все то, что между небом и землей, протягиваешь эти невидимые нити, потому что это пространство не должно быть пустым. Верхний и нижний планы не должны быть оторванными один от другого.
– А если они вступают в противоречие?
– Надо пожертвовать нижним. Потому что без высшего плана картина точно умрет, а с разрушенным нижним может выжить. Это не как в домостроительстве, тут долговечность фундамента лежит в мире идей. Конечно, вместе с такой жертвой ты теряешь часть зрителей, которая откажется тебя понимать. В первом сценарии «Изгнания» была измена героини, и ее беременность стала следствием любовной связи. Мы отказались от идеи адюльтера. Рациональный мотив исчез, ее поведение стало необъяснимым. После этого кто-то решил, что она просто идиотка, и утратил интерес к фильму. Но какая-то часть зрителей, уткнувшись в стену необъяснимого, в парадокс, подняла глаза вверх и увидела небо. Эти зрители остались со мной. С теми, кто отвернулся, мне не о чем говорить: я не смогу ответить ни на один их вопрос, потому что ответы, если даже я их знаю, лежат в том измерении, которого они не признают. Часто я и сам не знаю окончательных ответов и не хочу делать вид, будто знаю. Но я и не подбрасываю зрителю удобное объяснение.
– И много вы встретили зрителей, которые приняли ваше решение?
– Достаточно. Например, в Гатчине ко мне подошла девушка и сказала о фильме нечто такое, что меня поразило. Не знаю, как она, несмотря на свои юные годы, добралась до такого понимания, но только не логикой. Логика вообще мало что объясняет. А вы хотите ею «поверить гармонию». Хотите, чтобы все было рационально познаваемо. А я говорю, что есть вещи, которые не поддаются познанию, они перетекают в нас какими-то иными путями.
– Я не отрицаю существования абсолютных тайн. Таких, какая есть в рассказе Акутагавы про разбойника и супружескую пару.
– Но, заметьте, не в «Расёмоне» Куросавы. Куросава придумал дровосека, который рассказывает, как было на самом деле. Ему была нужна полная ясность и морально-гуманистический финал. Зрители 1952 года не потерпели бы необъяснимого…
– А вы не думаете, что в «Изгнании» поступок героини все же имеет рациональное объяснение? Она чувствует в муже что-то неладное и подвергает его испытанию, солгав ему, что беременна от другого. Этого тяжкого испытания он не выдерживает и открывается для нее со страшной стороны. Настолько страшной, что она фактически позволяет ему себя убить, причем вместе с нерожденным ребенком.
– Мне бы очень не хотелось в случае драматургической коллизии «Изгнания» употреблять слово «солгала». Но вынужден признать, что для зрителя тут есть почва и для такой интерпретации. Меня же интересовала не столько эта возможность истолкования, сколько библейский отзвук всей истории. Понятно, что героиня не Дева Мария, но тень Марии, как мне кажется, в фильме есть.
– Вы как-то сослались на легенду о том, что Иосиф, узнав о беременности Марии, хотел изгнать ее из дома, но его остановило благовещение.
– Да. У меня даже была дерзкая мысль назвать фильм «Благовещение», но это могло бы прозвучать как ирония, чего делать никак нельзя, да и потом – нельзя так прямо, в лоб. А изгнание – это состояние, в котором пребывает все человечество. Мы все изгнаны.
– Из рая?
– И не только. Прошкин, получая приз за «Живи и помни», сказал: «Моя душа в Питере, а бренное тело мучается в Москве».
– А где мучаетесь вы?
– Там же.
– Спрашиваю, потому что вы производите впечатление человека, удаленного от повседневности. Новости по телевизору смотрите?
– Пожалуй, нет. Смотрю, но как-то краем глаза и крайне редко. Не доверяю. Особенно в последнее время. Когда несколько лет назад во Франции разгорелся «бунт предместий», я там был на съемках. Мне вдруг стали звонить с нашего телевидения и спрашивать, что происходит и коснулось ли это меня лично. А меня коснулись только слухи о каких-то волнениях в пригородах Парижа, притом слухи были из Москвы. Наша переводчица в эти самые дни ездила в Париж и рассказывала потом, что в городе ничего не изменилось – ни подожженных машин, ни «страшных» вооруженных арабов она не видела и жизнь города текла по обыкновению. Публика в России следила за выдуманными страстями. Вот так СМИ создают события и заставляют людей ими интересоваться. То есть я хочу уточнить свою мысль: ясное дело, что действительно были эти волнения на окраинах Парижа, были и подожженные арабами машины, но только нам-то какое до этого дело? Хочешь помочь, вмешаться, пойти в ополчение или в Красный Крест, помочь голодающим детям Африки или рекрутироваться в защитники сербских интересов, тогда действуй, а сидеть разинув рот перед телевизором и «сочувствовать» страстям в «ящике» – это же опустошение, порожнее чувствование.
– Режиссеры игрового кино делают то же, то есть «заставляют людей сопереживать выдуманным страстям».
– Да, но при этом мы не выдаем за действительность то, что снимаем… Разве можно путать фабрику новостей с фабрикой грез? Художественное кино, как страшный или прекрасный вымысел, необходимо зрителю для личного пробуждения из плена бессмысленности, в котором мы все обретаемся. А наркотик пустых переживаний за чужой сгоревший где-то на окраине Парижа автомобиль, напротив, ввергает обывателя в еще более глубокий сон.
ВИКТОР МАТИЗЕН
Источник: Новые Известия
blog comments powered by Disqus